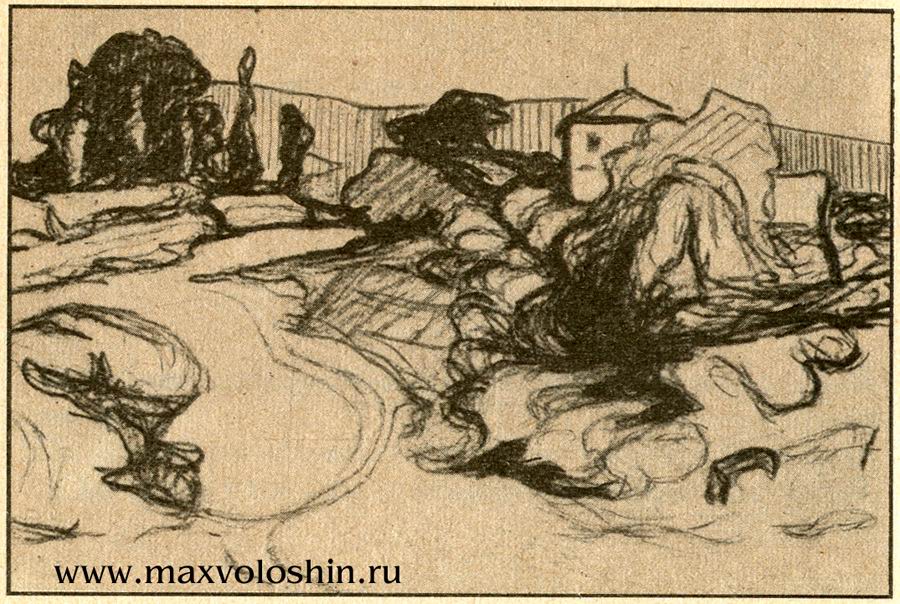
1-2
Мы расцеловались. Я оставляла очень доброго своего друга, часто баюкавшего меня на руках, друга, с которым я вела себя так, как будто была его дочерью, но который, как я знала1, был влюблен в меня...
...Вернувшись в Париж, я отправилась в мою студию на улице Асселин. Там меня ожидала большая почта: приглашения на выставки и вернисажи. И — весточка от Бориса Савинкова, нашедшего покупателя на мои картины! В тот же вечер я заглянула в “Ротонду”, где нашла всех моих друзей; пора было обдумать работу со всех сторон, включая хлеб насущный...
Эренбург просил меня сделать обложку для одной из книг его русских стихов2, за которую мне должны были заплатить. Другие товарищи дали мне адреса людей, в основном — докторов, которые были любителями живописи.
Кроме того, здесь была организация ААА — “Aide aux Artistes” *(Помощь художникам (франц.)). Ее президентом был Гюстав Кан *(Кан Гюстав (1859—1936) — французский писатель) из газеты “Le Quotidien” *(Ежедневная (франц.)), a вице-президентом Замарон, имевший должность в полицейской префектуре. Мне рассказали, что он очень добр и никогда не отказывает в помощи художнику. <...> Однажды я набралась смелости и, взяв несколько холстов и акварелей, робко направилась к его конторке в префектуре. <...>
Так я впервые очутилась в конторе Замарона. В дальнейшем, в начале каждого месяца, я непременно появлялась здесь с одной или двумя картинами. Если он сам не мог ничего выбрать, он давал мне несколько адресов: “Очень надежный человек... скажите, что Вы от меня”... И, в конце концов, в кармане, у меня всегда появлялось сколько-то денег. Более того: друзья моих друзей представляли меня их друзьям; Гюстав Кан также покупал мои картины, а Волошин знал в Париже огромное количество людей. Короче, я довольно успешно боролась с нищетой.
Однажды вечером Волошин взял меня к мосье и мадам Ц[етлиным]3. Гостями здесь бывали обычно мужчины, и мадам Ц. сидела среди них — красивая, высокая, величественная. Она любила направлять беседу, всегда вращавшуюся вокруг художественных и политических тем. Борис Савинков прошептал мне, морща щелки глаз: “Какая жалость, что такая прелестная женщина должна открывать рот! Ведь трудно быть глупее...” Я также считала ее слишком болтливой. Она хотела выдвинуться, покупая все, что попадет, как знаток искусства, особенно новейшего. Перед тем как мы вошли, Волошин сказал мне: “Только не дури. Я сделаю все, что могу, чтобы мадам Ц[етлин] купила одну или две твоих картины, и ее мать — тоже. Только ты должна улыбаться: будь повеселее и не хмурься”.
Мадам Ц. оглядела меня и решила, что я слишком молода и “мила”: очевидно, она приняла меня за гимназистку. Она выразила некоторое удивление, обнаружив, что все мужчины, включая ее фаворитов, любят меня. Такие, как я, чувствовали себя не в своей тарелке в ее роскошных комнатах с великолепными коврами и дорогой мебелью. Мы привыкли к “Ротонде” — и вели себя так, словно были в кафе. Эренбург, в грязных башмаках и с длинными волосами, выбивал свою трубку где попало, и, когда я взглянула на него, громко ко мне обратился: “Ну, Маревна-царевна, что ты уставилась на меня? Разве я не отлично выгляжу, сидя в этом кресле, покрытом красным шелком?”
Я засмеялась и не ответила.
Волошин был мягок и внимателен к мадам Ц. Он наблюдал за мной издали своими маленькими медвежьими глазками и иногда подходил спросить, не надоело ли мне. Ривера чувствовал себя как дома, беспечно сидя на столе, медленно и длинно пережевывая интересные проблемы живописи и политики. Волошин дополнял его энергичными возражениями. Савинков был сдержан и слушал с ироническим выражением.
Как я любила эти вечера вокруг большого стола, когда я слушала этих будоражащих душу людей, утверждавших каждый свою личность! И когда Савинков сказал, что сыт по горло “смехотворным салоном гоняющейся за знаменитостями мадам Ц., которая решила любой ценой играть мецената”, — это была не более чем поза. “Пока она платит за еду и выпивку, что можно требовать еще?” — сказал [Поль] Корнет, француз, хороший скульптор, друг Эренбурга и Риверы (которого он отчасти напоминал своим весом и плоскостопием), добродушный, с большим сердцем человек, любитель выпить и один из лучших моих товарищей.
Я встречалась с друзьями не только в “Ротонде” или c[afe] “Cupole”. Мы виделись в столовой Марии Васильевой, находившейся в старой студии на авеню дю Мэн, в двух шагах от студии Отто. Еда была здесь очень хорошая для своей цены: 60 сантимов, как мне помнится, за тарелку супа и дежурное блюдо. Была и выпивка, но не для всех: Васильева компенсировала себя напитками. Однако всегда находились люди, готовые тебя угостить. Я часто встречала здесь Модильяни, который был уже хорошо известен своими скульптурами (он работал на заброшенном клочке земли на задворках бульвара Монпарнас) и был также знаменит своей слабостью к кокаину, гашишу и бутылочке. У него был поэтический темперамент: он был начитан, культурен, совершенно бескорыстен, не жаждал ни богатства, ни славы. Но он был слабым, неспособным к борьбе против наркотиков и алкоголя, которые, возможно, вдохновляли его, а также позволяли забыть убожество и нищету жизни художника. <...>
Я должна сказать и о Розали. <...> Кто не знал ее cremerie? *(Кафе-молочная (франц.)) Подобно “Ротонде”, подобно столовой Васильевой, это была достопримечательность Монпарнаса тех дней. Существовал ли тогда такой художник, который не знал бы старую итальянку, проводившую добрую часть своего времени в борьбе с посетителями, отказывавшимися платить? Но, по сути, что за прекрасная женщина она была! В ее ресторанчике каждый чувствовал себя как дома. Она помогала не только Модильяни, который, несмотря на споры между ними, был ее любимчиком, но и многим другим художникам. <...>
Я иногда заходила к Розали отведать восхитительные итальянские блюда и именно там впервые увидела гиганта, который был не кем иным, как Риверой. Он был одет, как рабочий, в голубые штаны, испятнанные краской. С ним была Ангелина Белова *(Белова Ангелина Михайловна — художница, вторая жена Риверы), русская, выдающийся гравер. Часто его сопровождали его друзья, Липшиц и Мещанинов *(Липшиц Жак — скульптор, уроженец Литвы; Мещанинов — скульптор), тоже русские. Я любила все восточное, и, думаю, именно это в Ривере привлекло меня. Если не считать Пикассо, он единственный из толпы художников, кого я действительно любила. Он не был красив, но внешне напоминал высокого сарацина. Он становился известным, но все еще был очень беден, и перед войной Ангелина помогала ему существовать. Она обычно получала немного денег от своей семьи, а также немного зарабатывала гравированием. Так, мало-помалу, мой круг друзей становился определенней, и мы вскоре начали всюду бывать вместе: Ривера, Ангелина (хотя она часто оставалась дома), Эренбург, Волошин, Борис Савинков (реже, чем другие), Поль Корнет, Модильяни, Цадкин, Пикассо с женой и я. После войны к нашей группе присоединились Кислинг *(Кислинг Моисей (1891—1953) — художник, уроженец Кракова), Фернан Леже, Аполлинер и Макс Жакоб *(Жакоб Макс (1876—1944) — французский поэт и художник). <...>
Помню, как однажды Волошин, Эренбург, Катя *(Екатерина Оттовна Шмидт (1889—1977) — первая жена И. Эренбурга (во втором браке — Сорокина)), Савинков и я решили навестить Пикассо4. Он тогда перебрался жить с Монмартра на улицу Фруадево, против Монпарнасского кладбища, если я правильно помню. <...> Мы были у его двери в 11 часов. Он открыл сам, одетый в полосатый — голубое и белое — купальный костюм и котелок. Он заставил нас заглянуть во все комнаты (а их было множество), приспособленные служить фоном для его натюрмортов и портретов. В них ничего не было — только рисунки повсюду, и холсты, и кучи книг, загромождавших столы и стулья. Пол был выстлан перепачканными расписными ковриками, сигаретными окурками и кипами газет. На большом мольберте стоял холст, большой и таинственный... Никто сначала не рискнул спросить, что там изображено, из опасения попасть впросак. Так мы стояли, почтительные, молчаливые, поневоле ошеломленные силой и фантастичностью Пикассо, который, уже поразив нас своим полосатым купальником, продолжал гнуть ту же линию. Один Волошин не потерял своего поэтического любопытства и спросил:
— Что представляет эта картина, мэтр?
— О, ровно ничего, — ответил Пикассо, улыбаясь. — Между нами... это просто дерьмо — специально для идиотов.
— Спасибо, спасибо,— сказали Волошин и Эренбург.
— Не думайте, что я сказал это ради вас, дорогие господа, — продолжал Пикассо. — Вы — совсем другое дело... хотя я часто должен работать на дураков, которые ни черта не смыслят в искусстве, и мой торговец всегда просит меня делать что-нибудь для ошарашивания публики.
Как знать, был ли он искренен?
Пикассо был не слишком разговорчив в тот день; возможно, наш визит помешал ему отправиться в ванную, о чем говорил его прекрасный купальный костюм, приготовленный для плавания. Он проводил нас до двери с возможной учтивостью. Позднее, став моим товарищем, он полушутя пригласил меня прийти принять ванну в его доме. “Только предупреди меня заранее, потому что моя ванная всегда грязная!”
В это самое время Волошин собрался уезжать в Россию и звал меня с собой. Пикассо сказал мне: “Не езди. Что за блажь! Здесь мы сделаем из тебя художницу, не хуже Мари” (Мари Лорансен *(Мари Лорансен (1885—1956) — французская художница-офортистка)). Ривера ничего не сказал, но странно на меня посмотрел, и я поняла, что он также хочет, чтоб я осталась.
Однажды Ривера показал мои картины Матиссу, который нашел их очень интересными: они были кубистическими. <...>
Волошин, Савинков, Илья и я отправились однажды на веселый вечер в c[afe] “Cupole”, как раз в то время, когда дягилевский “Русский балет” гастролировал в Париже. Там был Ривера, красивый Мясин *(Мясин Леонид Федорович (1895—1979) — постановщик танцев в дягилевской труппе “Русского балета”) и блестящий Макс Жакоб. Ривера втолкнул меня в отдельную комнату и приготовил питье, добавив в бокал шампанского капли нашей крови: индейский обычай, по его словам, который должен связать нас на годы — для вечности. Мы опустошили кубок, глядя в глаза друг другу: было это шуткой или настоящим колдовством?
Вошедший Волошин увидел наш поцелуй над кубком и тоже захотел выпить мексиканской крови, смешанной с его собственной, русско-германской. Он сказал, что никогда не пил крови, кроме той, которую он сосал, порезав палец. Они исполнили тот же ритуал — и внезапно мы все примолкли: возможно, мы подпали под обаяние Риверы, колдуна или жреца. Вернувшись в гостиную, мы отказались сказать, что делали, хотя нам говорили, что мы выглядели совершенно счастливыми. Было также замечено, что Диего, Волошин и я стали называть друг друга на “ты”.
— Они, очевидно, пили любовный напиток, — сказал Эренбург.
<...> Я не поехала с Максом Волошиным, когда он отправлялся к своей матери в Крым. Диего и я проводили его, и Волошин серьезно сказал Диего: “Я доверяю ее тебе. Мы братья по крови, которую вместе пили: она твоя сестра. Защищай ее от зла”. Ривера обещал. Что-то он думал на самом деле, говоря это?
Отъезд Волошина оставил большую трещину, теперь его больше не было с нами. <...>
1 Думается, что самообольщение Стебельской, выражение ее потребности быть любимой кем-то. Вернувшись в Париж, она писала Волошину в сентябре 1915 года: “Дорогой мой и, думаю, единственный дружище! Все-таки я тебе здорово мешала там, а? Ну, зато теперь ты можешь наслаждаться тишиной...” (ИРЛИ).
2 Стебельская выполнила рисунок для обложки книги И. Эренбурга “Стихи о канунах” (М., 1916).
3 Цетлин Мария Самойловна (урожд. Тумаркина, 1882— 1976) — политэмигрантка, доктор философии. Волошин посвятил ей стихотворения “Реймская богоматерь” (1915) и “М. С. Цетлин” (“Нет, не склоненной в дверной раме...”) (1917). Муж Марии Самойловны Михаил Осипович Цетлин (1882—1946) — поэт (псевдоним Амари), происходил из семьи чаеторговцев Высоцких. См. о Цетлиных в воспоминаниях Эренбурга (с. 343— 346).
4 21 июня 1915 г. Ривера писал Волошину: “Я видел только что Пикассо и сказал ему, что Вы хотите посетить его ателье с м-ль Маревной, Бакстом и князем Аргутинским” (ИРЛИ).
Как свидетельствует пометка в записной книжке Волошина, был и другой его визит к П. Пикассо — 4 февраля 1916 года.
1-2
 Рисунок М.А. Волошина |  Рисунок М.А. Волошина |  Рисунок М.А. Волошина |